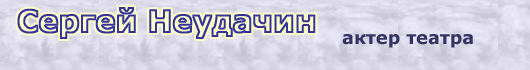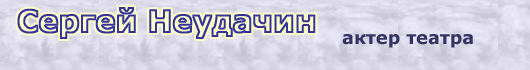| |
|
НАВИГАТОР Другу
(С.Т. и Е.И.)
Сашке Шаляпину
Я перестал писать стихи.
Тихо и грустно, отчего ж
Мысли изящны и мягки
И тяжела поверхность кож.
Я упаду на свежий стог
Только что стриженных волос, -
Вот он печальный мой итог,
Вот он последний мой вопрос.
Я уплываю в море-сны,
В теплых теченьях золотых
Запах весенней глубины
Мне принесет последний стих…
Стих из забвения Судьбы,
Темных и страшных Смерти вод,
Где омывая наши лбы
Кровью из горла лед течет…
27 мая 2013 года.
Помню, что так начиналось. Но не помню — когда.
— На фиг (вот тут могло стоять слово похлеще) мне их груди (груди — точно были)!
— кричит Сашка Шаляпин и со всей мочи швыряет газету на стол. Как карту отбивает.
Не то, чтоб Сашка был не грубый. Не то, чтоб он не произнес типа: арбузы, дыни,
тыквы и т.д. и т.п., а просто дело было вечером, осенью, выпито было немало,
закуски вообще не было. Закусывали папиросами.
Я был пьян и не помню все точно. Как в замедленной съемке. Сашка с пьяными
злобными круглыми глазами, волосы как у вампира, медленно приподнимается из-за
стола, широко размахивается свернутой в трубочку газетой, а потом ка-э-к ею
об стол... Все крошки и окурки ка-э-к весело подпрыгнут и... — и вся злая багровая
Сашкина морда в мгновение ока перекрашивается в трупный серый цвет папиросного
пепла. Сашка, естественно, чихает и петляет к рукомойнику.
Или, постой, к умывальнику?
Была водопроводная вода или воду носили из колодца? И кто носил? Мы или денщик?
А если денщик, то чей? И кто мы были такие? А самое главное, когда было дело:
до войны или во время? Черт побери, прости, Царь! Все перепуталось в этой дурной
голове. Сизый туман памяти, как папиросный дым — топором после долгой партии
в "тыщщу", и воспоминания, как вот сейчас Сашка, изредка проявляются
в нем, разгоняя дым руками, а потом неумолимо их засасывает обратно...
Но абсолютно достоверно известно, что тайное действие сие творилось в Прибалтике,
на какой-то лесной базе у Черного озера. Вокруг росли ели и березы, иногда
яблони, стояла осень, довольно поздняя, пахло холодом и переспелыми яблоками;
вдали можно было услышать повторяющийся время от времени гул, — то ли падали
снаряды, то ли кого-то бомбили, а то ли невдалеке находился стадион, где в
это время проходил футбольный матч.
Иногда, на старости лет, я задумываюсь над странным произношением двух слов,
одного на русском языке, другого — на языке, смахивающем на русский. Слов — "арест" и "секвестр".
Где-то глубоко внутри, когда ко мне приходит тайное знание, я понимаю, что
слово "арест" тоже не совсем русского происхождения, и, действительно,
очень даже похоже на второе, и, вполне возможно, что они одного корня — не
русского, но похожего на русский. Но оно, это слово, так врезалось в нашу душу,
наши гены, так крепко запомнилось, адаптировалось, ассимилировалось, столько
принесло с собой событий, а после — воспоминаний, что его невозможно представить
не своим, не родным, не нашим исконным. И, сидя в углу на кухне, у горячей
батареи, натянув на себя все, чем можно согреться и дополнительно согреваясь
рюмкой дешевого бренди, я часто задумываюсь, а станет ли второе слово такой
же неотъемлемой частью нашего языка, бытия и истории? И, откровенно говоря,
сомневаюсь в этом... Особенно, когда слышу, как разрубая папиросный туман памяти,
Сашка Шаляпин орет:
"На фиг мне их груди!"
"Груди!" Я помню, что он кричал именно — "груди"!.. Как недопитый,
в буквальном смысле, интеллигент от футбола.
Вообще-то, звали Сашку Аликом. Вернее, так называл его я. И не от слова "алкоголик".
В газетах, репортажах, выступлениях, радио и телепередачах, книгах и энциклопедиях
его величали либо Александром Шаляпиным, либо — по совпадению — Александром
Федоровичем... И самое странное, когда мы учились с ним в школе, в одном классе,
никто (поверьте мне, клянусь!), никто в целой школе и даже в целом дворе, а
может даже в целом городе, даже те, кто ну просто не мог упустить случая потрепать
своим длинным бескостным языком, подколоть другого, — никто не дразнил его
великим русским певцом, никто не выпрашивал спеть "Блоху" или "Дубинушку",
никто не называл его "внуком" или "внебрачным сыном", а
все дразнили его просто, от слова "шляпа". И все говорили: "Эх,
Санька, п р о ш л я п и л!", или "Шурик, добавь чирик и дело в ш
л я п е!", или "Ну ты, сосунок, я те счас шляпу на уши натяну и плясать
заставлю!"... И даже учителя, хотя среди них попадались достаточные гниды,
никогда не обзывали его, не пользовались его фамилией в своих меркантильных
целях. Может быть из уважения к певцу, а может, из уважения к Сашкиному тренеру
— бывшему футболисту, революционному матросу, анархисту, пулеметчику Первой
Конной, цирковому борцу, расстрелянному маршалу всей страны Антипычу, по прозвищу
Царь... Мне сейчас восемьдесят. Жизнь моя подходит к своему странному завершению,
Царя уже давно нет с нами, но его манеры, его точные емкие слова действуют
на меня до сих пор, как на кота — валерианка.
— Дура ты, Сайка, разве так лётают! — именно "Сайка", именно "лётают".
Сашка был вратарем, хорошим вратарем, и он однажды полетел... Да так полетел,
что угодил в немецкую армейскую команду люфтваффе и приземлился в пышные
объятия грудастой белокурой арийки на страницах одной очень популярной
немецкой газеты под названием то ли "Шпигель", то ли "Шпрехен
зи дойч", а то ли под каким-то другим — не помню, которую он и обстучал
об стол во время нашего осеннего вечера в Прибалтийском лесном лагере за
водкой и папиросами.
— Алик, — тихонько зову его я и точеным движением разливаю водку из бутылки
по стаканам. — За нас!.. Дадим им прикурить...
Сашка останавливается и тупо смотрит на меня. На лице — капли воды, которую
он не вытер рукавом. А потом яростно шепчет:
— Ну почему их так много, Серега? Ну если бы и была, а ее, конечно, не было,
то всего одна... И не блондинка, а брюнетка!
— Она перекрасилась, — в ответ шепчу я. — Была брюнеткой, стала блондинкой.
У них немецкая порода такая. Истинная арийка должна быть блондинкой и грудастой,
вот такой!
— Не такой, — опускает мои руки Сашка. — Позор...
— Сквозь тернии к звездам! — цитируя я. — За тебя!
— Меня расстреляют, — сообщает Сашка.
— За что?
— За все хорошее...
Выпили. Закурили.
— А-а, мура это все, — вдруг бросает Сашка. — Че они могут, немчура поганая,
только хохмить да зубоскалиться... Нормальная девка. Я бы и втюрился, честно...
Серег, у нас ничего не было... Послезавтра я им побегаю!…
— Точно, — говорю я и разливаю остатки водки или спирта из армейской фляжки.
— Как говаривал Царь: "Кто к нам с мячом придет, тот от мяча и погибнет. "Лётай,
Сайка!"
Сашка улыбается, ему нравится, когда так говорят. Он очень любил Царя. "Не
Царь, а Бог!" — не раз констатировал он и был прав. Без Царя не было б
никого. И Сашки не было б. Лучшего голкипера нашего времени. И все были б без
царя в голове.
— Не очень смешно, — укоряет Сашка и поясняет. — Так шутить с этим именем...
— Извини, Царь, — говорю я в воздух, мы чокаемся и выпиваем.
И нас начинает трясти. Сашка открывает рот, как рыба на берегу, морда всех
цветов радуги, тянет нервные руки к моему бычку — "ап-ап-ап". Я моментально
засовываю окурок ему в рот. Он затягивается, из ноздрей его начинает бить фонтаном
дым. Змей Горыныч да и только.
— Кстати, интересно, сколько сейчас? — задыхаясь лепечет он, оглядываясь на
окна.
За окнами уже темно. И ни черта не видно. Слышно, как моросит дождь. И мне
становится почему-то грустно.
— Дождь, — говорю я и пожимаю плечами.
Потом мы одновременно наклоняемся и бьемся лбами.
— Бум? — спрашивает Санька.
— Бум, — отвечаю я.
Сашка подмигивает мне и начинает негромко напевать:
"Дождик, дождик, серый дым,
Плачет за версту...
А я пойду в Ерусалим,
Поклонюсь Христу..."
* * * * *
Газета пестрела:
"Внебрачный сын Шаляпина покидает Россию в поисках Счастья и Свободы!" (Клевета).
"Любовь и грех. Великий голкипер и шансонетка."
(На самом деле Генриетта была специальным агентом гестапо... Или абвера...
Или самого фюрера.)
"Пьяные русские медведи на велосипеде катят как хозяева по Новой Германии."
(Ну, не как хозяева, а как частично подвыпившие веселые люди — восьмеркой).
"Ящик тушенки — новый Иуда?"
(Ну вот про Иуду они загнули. Попросили немцы сыграть один любительский матч
против своих же. Я договаривался на нейтральной, а они сдвинули линию фронта
чуть вперед. Сашке было не наплевать где. Сашка был зол, но согласился. "Хрен
они на русской земле забьют!" — высказался он и смачно плюнул. На сапог
немецкой договаривающейся стороне. "Ашик ту-у-шен-н-н-кы", — сказала
договаривающаяся сторона. "О кей, — сказал Санька, — хоть ухо динозавра".
Ему так и не смогли забить... Судья видел, я видел, все видели, что была штанга.
Но фотографы из газеты уговорили судью засчитать гол, потому что получился
хороший кадр для геббелевской пропаганды: Санька со зверским выражением лица
тщетно тянется за мячом, который летит в угол ворот, то есть на самом деле
— в штангу.
В общем, судья уступил уговорам. Свой своим. Гол засчитали. Соперники не обиделись.
Зато Сашку опозорили на весь футбольный мир. Сашка обиделся. И за себя и за
державу.)
Были там и другие заголовки, позабористей. Не говорю уже о содержании статей.
Фамилии авторов были изменены, тоже по политическим мотивам, мол, агенты русского
футбола будут мстить. Редактор отсиживался на своей загородной вилле за двойными
стенами в компании с ротой охранников и двумя свирепыми овчарками. Пил шнапс,
играл в кости с собаками, слушал Вагнера. Говорят, сам Гитлер заезжал к нему
на огонек, погреться возле камелька. Может быть и слухи, только у редактора
вскоре объявился на груди крест какой-то там степени за какие-то там заслуги
перед дойчланд.
Генриетта, говорят, долго плакала, звонила, просила ее простить. Видать, ее
плохо запугали. Но потом пропала, насовсем. Газеты писали, что, мол, в Бразилии
выступает в одном кабаре. Один знакомый переводчик с бразильского рассказал
нам, что видел ее на карнавале в Рио-де-Жанейро, и что он узнал ее по бюсту
и белокурым волосам. Правда, зачем она перекрасилась в негритоску и сделала
пластическую операцию на лице, он так и не сумел догадаться. Другой переводчик
видел ее на Олимпийских Играх в Берлине. "Как она резала воду своим божественным
тициановским торсом!" — восхищался он. Наблюдал он все это, сидючи на
самой дальней трибуне, без бинокля, будучи при этом страшно близоруким, а очки
ему раздавили во время давки перед входом на стадион.
— Специально! — многозначительно шипел он, поминутно оглядываясь и шаря взглядом
по углам, очевидно опасаясь слежки и подслушивающих устройств. — Агенты Мюллера!..
Эт точно...
— Хорошо она резала воду своим божественным торсом на гаревой дорожке? — невозмутимо
спросил тогда Сашка.
— Очень! — не моргнув глазом, откликнулся переводчик.
Мы распрощались...
Жизнь наша после всех этих бурных событий продолжала течь самым что ни
на есть размеренным образом. Сашка был молод и неистово везуч. Его не посадили,
не сослали, не расстреляли, а наоборот, сделали из него народного героя.
Да еще такого смекалистого! Мол, он и немцам под... (подложил свинью),
в результате чего они проиграли, да еще и ящик тушенки за такую игру ухитрился
слямзить для нужд отечественного футбола. Умалчивалось, конечно, кому умудрились
проиграть немцы из люфтваффе, за которых стоял Сашка. Но это уже было не
важно.
"Молодэс, товарыш Шашка! — сказал Сталин. — Наж друг и брат!" — и похлопал
его по плечу. Как раз по тому месту, которым Сашка перед этим неудачно приземлился,
защищая ворота сборной на игре с турками. Сашка, естественно, взвыл от восторга.
Послышались овации, постепенно переходящие в экстаз. Хроника того времени запечатлела
его сияющие глаза, из которых брызгами шампанского вырывались слезы патриотического
единства.
Ему вручили звезду Героя, Сталинскую премию, которую мы с ним безбожно пропили,
затем он летал в Англию к отцам футбола. Лондон ему приглянулся. "Люблю
туман", — признался он Черчиллю. Потом он сплавал в Бразилию, к королям
футбола, где и познакомился с юным Пеле и под пьяную лавочку во время одуряющей
жары, на пляже, попивая теплую маисовую водочку, напророчил тому золотые горы…
Через некоторое время его принимали дети футбола и Мао. Сашка попытался надавить
на великого кормчего своим авторитетом, дабы повернуть "культурную революцию" вспять,
но никак не мог выговорить слово «хунвейбины», и у него ничего не получилось.
Уставал Санька жутко. « Не по мне вся эта светскость, Серега, - как-то признался
он, - мне лучше мячики ловить». И он старался держать себя в спортивной форме.
На некоторое время бросил пить, даже пытался закодироваться, но я его отговорил: "Себя
не уважать, Алик." Сашка понял, но стал позволять себе расслабиться за
рюмкой (мы давно перешли на дорогие коньяки и сигареты "Кэмэл" —
денег у него, слава богу, куры не клевали) только в компании со мной.
Ему было плохо, я это замечал, ему хотелось большего, чем он достиг. Но
большего не достигал никто, потому как большего не существовало в природе.
Сашка это понимал, и Сашка угасал, делая иногда слабые попытки вклиниться
в нормальную жизнь, влиться в прежнее русло. Но все было напрасным, зряшным
напряжением сил и воли. Ну не мог же, в конце концов, он вывернуть себя
наизнанку!
"Первое, — сказал я ему, желая помочь и разобраться в проблеме. —
1. Профессия.
Алик, ты достиг пика профессии, пика самовыражения, пика популярности, пика
опыта и физической формы. Ты — не профессионал, ты — гений. Выше тебя нет никого,
кроме Бога и Сталина.
2. Второе..."
Мы выпили, закусили, закурили, помолчали. Сашка вдруг расплакался, как маленький.
Этого с ним давно не случалось. "Пахнет керосином, — подумал я. — Впал
в детство, нервы шалят, по Фрейду что-то там на сексуально-подсознательной
почве..." Я налил еще по одной. Сашка вздохнул, хотел было выпить, но
поставил рюмку обратно. Это меня напугало больше всего. Наркотики?! Он выглядел,
как добропорядочный наркоман. Я украдкой взглянул на его руки. Нет. Все в порядке.
Ну, если только травка. Но не без меня же! А пробовали мы ее всего пару раз,
да и то ему становилось плохо после нее.
— Серега, — устало улыбнулся он. — Постой, не суетись. Давай поговорим нормально.
Без лишних слов, а со словами…
— Давай, — согласился я. — Только ты выпей.
— Дура ты, — сказал он и посмотрел мне прямо в глаза. Не на глаза, а в глаза.
В центр зрачков, внутрь. Я не отвел взгляда, но шарахнуло меня жаром будь здоров.
— Понимаешь, разве так, как я, л ё т а ю т?
"Алик, я отбрасываю неудачи на личном фронте, выметаю поганой метлой
жизненные неурядицы и скуку, выбрасываю на помойку и на фиг всяких Фрейдов,
Юнгов, Карнеги, уотлов и дотлов и прочую ахинею. Я свожу с ума всех психологов
и терапевтов, урчащим от удовольствия каннибалом пожираю жрецов-экстрасенсов,
превращаю в лягушек черных и белых колдунов, луплю по заду феминисток,
разбогемливаю богему, перекрашиваю всех "цветных", разделываю
на аппетитные кусочки топ-моделей и стриптизерш, порю ерунду на улице,
обесцениваю любовь и прочие светлые чувства, не иду в церковь, проклинаю
Сталина, люблю кошек, больше — собак, особенно собаку по имени Евка, мне
не надо славы, денег, шмоток, жены, порядочной мещанской жизни, машины,
дачи, могильной плиты, памятника, оплакивания родственников усопшего, мне
не нужно войны, ссор, драк, самолетов, ракет, космических кораблей, спутникового
телевидения, луны, моря, тропиков, Крыма-Канар, солнца, звезд, Галактики,
Вселенной. Мне не нужно ничего. Я не боюсь ничего. Мне страшно только одно.
Мне страшно, что тебе больно, Алька".
— Ну, развел дешевую мелодраму, — морщится он.
— Ну и что? — говорю я. — Все равно ты подыхаешь от горя. Царя! Вызывай Царя,
Алька! И как можно скорее!..
— Ты спятил... Может, прямо сейчас? — издевается он. — Нет его!
— Есть его!.. Веры в тебе...
Алик как вскочит, как завопит:
— Ца-а-арь!!! БАЙКА ПРО СЛЕПОГО И ФЕЮ,
которую тот повстречал в темном лесу.
(Свистнута из псевдонародных источников)
Шел однажды Слепой вдоль по речке Истре,
Видит, впереди его встает темный лес.
Всюду, где ни шел Слепой, впереди вставал лес.
И никак из темного из лесу он выбраться не мог…
С детства он не знал ничего, кроме леса.
Лес его шумел и в него шишками кидал,
Обзывались лешие из темного из лесу:
«Что ты потерял тут, Слепошарый, и как сюды попал?!»
Отвечал он им отчаянно и звонко:
«Кто мои родителя, я их ведь не видал!
Как родился я под темным под кусточком,
Так с тех пор я поля чистого, опушки не встречал…»
Лешие смеялись и по лесу водили,
То в холодный ключ, то по топкому болоту,
Еловыми ветками, крапивою стегали
По лицу безглазому, по голой спине…
Но однажды он, побитый и болезный,
Не упал во тьму, оперся обо что-то.
Это была палка, а палка была Посох,
Посох стал и Другом, и Богом, и Светом для него…
Мы, наверное, напоминаем свихнувшихся. Мы сидим совершенно трезвые на лавочке,
на темной улице и раскачиваемся под какую-то неслышимую мелодию, по-кошачьи
закатив глаза и едва не мурлыча. Пару раз нас пытаются захомутать менты.
Но тут нам в помощь приходит Сашкина слава. Они хотят проводить его домой,
сюсюкают с ним, как с маленьким. Сашка раздает им автографы на погоны. И
начинает снимать одежду, чтобы раздать ее на сувениры. Здоровенный сержант
подхватывает его на руки и, баюкая, пытается унести. Сашка начинает капризничать
и брыкаться, и со всей дури заезжает пяткой сержанту в ухо. Сержант выпускает
его, и Сашка с тарзаньим воплем скрывается в темноте.
Менты свирепеют и всю обиду вымещают на мне. Всю ночь в одиночной камере я пытаюсь
найти пятый угол...
Мне уже восемьдесят пять. Полет моей мысли приближается к точке зенита.
Падение моего тела приближается к точке ниже уровня моря. Черви, раскрыв
пасти, ждут мою бренную плоть, предвкушая плотный ужин. Мне их невольно жаль.
Ни фига аппетитного они не дождутся. Их ожидает коварный маниакально-депрессивный
психоз. Сашка, Санька, Алик, где ты? Исчезла тайна бытия. Все уже разобрано
или разбирается на составные части, все объяснено или объясняется, и не остается
ничего целого. Как любить себя, мешок с костями, если ты подноготно просвечен
и вся твоя суть объясняется внутренностями, которые только и делают, что
требуют, требуют, а потом жрут, потребляют и переваривают. Превращая все
хорошее в непотребное с дурным запахом. Будь проклята полезность наших времен!..
Вспоминаю небольшой эпизод из нашей с Аликом жизненной эпопеи. Мы на взлете
всемирной любви. Время тогда было оголтело-радостное, весна, хрущевская одышка,
полеты Гагарина, Титова, поэты, книги, споры, спектакли новых театров, хоккей,
естественно, футбол, музыка, кино и все такое прочее. Мы не ведали подмены.
А, значит, в нас ее не было. Не было Гитлера, не было Сталина. Пеле приезжает
лично переманить Сашку в сборную Бразилии. Сашка наотрез отказывается. Да
и кто не отказался бы на его месте, если любишь Есенина? Сашка так и ответил
Пеле (Эдсону Арантес ду Насименту), что, мол…
Да и сам я нынче
чтой-то стал нестойкий.
Не дойду до дому
С дружеской попойки...
Пеле сокрушенно покачал курчавой головой, посетовал на то, что русские столько
пьют, сказал, что искренне жаль великого спортсмена, и что он, Пеле, назло
Саньке, станет трехкратным чемпионом мира, женится на шведке, а к алкоголю
и табаку не притронется до конца дней своих. "Я живу для своих маленьких
пелят, — гордо сказал он. — И для своей многострадальной жизнерадостной Бразилии,
где не так много диких обезьян, как это вещают некоторые легкомысленные деятели
вашей культуры... А если они нас считают за обезьян, то тем хуже, потому что
они тоже похожи на кое-каких животных. А на каких именно, я не намерен здесь
обсуждать, потому что бразильцы..." Бразильская речь очень ярка, быстра
и многообразна. Сашка, который очень хорошо был знаком с Бразилией и знал кучу
языков, в том числе и бразильский, и тот не успевал многого понять и верно
перевести некоторые эпитеты, которыми Пеле награждал деятелей нашей культуры.
Пеле говорил минут двадцать и так разошелся, что мы его еле остановили, пообещав,
что Сашка пригласит его комментировать свой прощальный матч.
"А приезжайте все! — сказал Сашка в своей бесшабашной манере. — Кто еще
жив будет... Особенно Гарринчу хочу еще раз увидеть. Очень прикипел я к нему...
Как и к тебе, — добавил он дипломатично. — Но только не Марадонна!"
Пеле согласно закивал, обезоруживающе улыбнулся, сплясал самбу или румбу (я
в них плохо разбираюсь) и удалился с поклоном...
Какие были люди! Какое благородство! Какая простота, не та, что хуже воровства,
а достойная мужская. Целостность. И неуемная стремительность. От слова "стремиться".
Куда? В неизведанное. Люди, конечно, не боги, но при желании и терпении могут
дать фору любому божеству. Но они не опустятся до этого. Они не высокомерны.
Честолюбивы, но не тщеславны. Они умницы, сеющие зерно и отделяющие его от
плевел. Слава Пеле! Слава футболу! Слава Альке, пока он Шаляпин!
По-моему, я глупею...
* * * * *
"Гамбургер — это истина", — ляпнул он, когда мы были в Америке.
"Истины не существует", — парировал я.
"Ваша истина — ложь, — ответил он, с аппетитом дожевывая чизбургер. — Вот
это и есть истина..."
"Началось", — подумал я.
"Чего ты хочешь?" — "Я? Ничего. У меня все есть." — "Ой
ли?" — "А что?" — "Я тебя раскусил. Ты хочешь власти!" — "О,
как страшно... Успокойся, она у меня есть." — "Интересно, какая?" — "Сам
знаешь..." — "А-а, ты имеешь в виду..." — "Вот именно." — "Это,
во-первых, очень проходящая и слабая власть, потому что она не построена на страхе.
Во-вторых, она не узаконена... И в третьих, если мода на тебя пройдет, или ты
окажешься неудобен и не выгоден и для сильных мира сего, и для простых людей
– тебе конец!» - « Ой ли?» - « Ты что, думаешь, я совсем дурак?» - « Прости,
я просто не люблю пустых рассуждений…» - « Ну и осел, попомнишь мои слова!»
Мы поссорились, правда, всего на полчаса. Сашка помрачнел. А я как будто накаркал.
После приема в Белом доме у президента Соединенных Штатов, где ему подарили
один из Алеутских островов и сделали почетным сенатором, Сашка вдруг встревожился,
довольно-таки некрасиво отказался от всего, а после накричал на президента,
оскорбив в его лице всю американскую нацию. Впрочем, упреки были справедливы.
Начал он с индейских резерваций и Макдональдса, в середине перешел на поп-культуру
и непомерные амбиции Америки, а закончил Хиросимой и Нагасаки. Он плакал, он
жалел японцев искренне. "Ну зачем? — взывал он. — Зачем нужно было делать
такое?!" Ему ответили в той же резкой форме, напомнили насчет красного
террора и сталинских лагерей. Сашка взревел, как подраненный зверь, стал крушить
мебель и чуть не устроил потасовку с телохранителями. В конце концов его утихомирили,
скрутили и определили в лучшую в мире психушку. Лечился он недолго, стал на
время тихим и славненьким, я его навещал, он напевал слащавую мелодию и кротко
улыбался. Мне становилось тошно и гадко. Ах, ты, божья овечка!..
Домой он вернулся замкнутым и каким-то плоским, потерявшим былой объем.
Он продолжал играть, и чем дальше, тем лучше. С каким-то молчаливым отчаянием,
словно сражался на поле брани, и это был его последний бой.
И откуда только у него брались силы? Я старел, уставал, впадал в безвременье,
а он жег бесконечный свой топливный запас. И при этом продолжал выпивать со
мной.
"Все слова, — говорил он. — Дело! Футбол — это конкретно. Я не говорю, а
делаю, я не рассуждаю, а живу. Не прикидываюсь, а отдаюсь. В первый раз. Как
девчонка-целочка".
И совершенно неожиданно резко менял тему разговора:
"Жаль мне иногда девчушек. И ненавижу я этих первых козлов, которые срывают
цветы!"
Он выдал тираду и замолчал. Замолчал вдруг так серьезно, с зубовным скрежетом.
Слышно было, как волосы на его голове встают дыбом и шелестят.
"Маленькая Вселенная, Планета", — думал я.
Он ни разу не рассказывал мне о своих любовных похождениях, но я-то хорошо
его знал, как мне тогда казалось, и поэтому мог предполагать, что у него там
творится.
"Пока забудь об этом, — прервал он мои мысли. — Ни в этом суть... Не могу...
Не могу, Серега!.. Тошно! Противно! Как прыгнуть выше головы?! Что стоит жизнь,
если она несовершенна? Если закончена! Знаешь, почему я гений? Потому что я гибкий.
Я — аморфное тело. Я — никто и все. Я бесполый, ни мужик, ни баба..."
"Врешь, — пытался схохмить я. — Ты настоящий мужик. Я тебя ува..."
"Стоп!" — сказал он резко и злобно.
Я вытаращил глаза. Сашка поморщился, как от зубной боли.
"Извини, нервы... Сколько тебе лет, Серега? А-а, много уже. А мне? Столько
же? Нет, у меня нет возраста... Знаешь человека-змею? Так вот, и у него есть
предел гибкости. Человек несовершенен. И дух его тоже. Человек костенеет, дубеет,
а я нет! Потому что у меня нет духа. Я гений и выживаю, потому что у меня нет
ничего такого. Того, что метает. Во мне одно предательство, я пожираю все на
благо своему "я". Оч-чень капризному и жестокому "я". Моему
внутреннему врагу. Я с ним дерусь по сотне раз на дню, но обожаю до невозможного.
И вот когда придет время выбора, или-или... — Он осекся и как-то странно взглянул
на меня. Как-то сочувственно и в то же время с легким презрением. — Ты думаешь,
ты меня знаешь?.. Нет, ты знаешь ту половину, что выросла из детства, а ту, что
растет в обратном направлении, из смерти... Оттуда, — он указал вверх. — А может
и оттуда, — он показал вниз. — Ты даже не можешь представить. Она пока не очень
заметна, но страшно сильна. И когда наступит момент их встречи, стыковки — я
не знаю, что будет. Кто победит... Будет авария, взрыв или... или тихая мелодия.
А может, все станет совсем другим. Полным, понимаешь? И я боюсь этого момента.
Шибко боюсь. Конечно, можно, еще есть время остановить его, застрять на какой-то
уютной остановке и не двигаться дальше. Но для меня это — смерть. А другое —
черт его знает! Может и лучшее... Только бы не стать чудовищем. А еще хуже —
божком!.."
Как он был прав! Его превращение происходило не внешне, но смотреть и наблюдать
за этим было выше моих сил. Я верил ему, но не мог примириться с другим — с
чужим в моем друге...
Он совершал иногда совершенно дикие, ненормальные с точки зрения здравого смысла
поступки. Все в нем боролось и сокрушалось. И в то же время он был ко всему
печально равнодушен. Как будто знал что-то главное и с ироничной улыбкой более
старшего и опытного наблюдал за возней детей в песочнице, за нашей бессознательной
игрой в жизнь. Приближался момент развязки, и он чувствовал это. Он стал больше
пить, но никогда не был пьяным. В нем росла угрюмая сила, и я чувствовал, что
только усилием воли он сдерживает ее. Мир был ему чужд. Он был не отсюда. Наши
правила игры его не касались. У него были свои. И однажды он сделал непоправимое
для нашей дружбы, что и привело к разрыву. С его точки зрения это был пустяк,
фигня, но я был другой. Я остановился на привычном полустанке, удобно устроился
там, а когда ехал, то всегда по расписанию в одну и ту же сторону. По кольцу.
* * * * *
О женщинах. "О любви". Стендаль.
Я всегда считал женщину камнем преткновения. Она составляла половину жизни
земной, как и ты составлял ее половину. Гармония. Все правильно. А дети —
плод любви. ("Стра-а-ашно редко!" — поправлял Саня). Мудрые предки
все расставили по местам. Не позволив внедриться в логику жизни чуждому и
разрушающему. Это было жизнью и продолжением жизни. А он называл все это "энтропией".
Стремлением к хаосу. Почти незаметным, но верным.
"Не верь глазам своим, не верь ушам своим, не верь мозгам своим. Все мы
— добровольные овечки на заклание ненасытному алтарю, имя которому — Смерть".
"Смерть — во спасение", — отвечал я.
"Кого?"
Когда он увлекся всем этим, я и понять не мог. Он закончил сразу три университета
— в Гейдельберге, в Кембридже и в Москве. Гарвард он случайно обошел. Знания
он впитывал в себя с такой же легкостью, как футбольные финты, но от них у
него почти ничего не оставалось. Он отбрасывал все лишнее и по крохам цементировал
какую-то свою идею. Или ахинею. Или глобальное понимание всего того, чего он
не мог объяснить словами. Он объявлял, что имеет Знание, но не мог доказать
его, вывести логическим путем. Он просто знал. И, естественно, никто не верил
ему. Так как каждый был уверен, что знает именно он. Что знали? И о чем молчали?
И на что спешили закрыть глаза?
"Вот плывет лодка. А в ней — лодочник. Кстати, "я убью тебя, лодочник!".
Но он его не убьет. И лодочник не виноват. И наши желания — призрак действия.
Мы беспомощны. Лодочник не управляет лодкой. И не лодка плывет по реке. Река
течет по лодке. А лодка течет по лодочнику. А лодочник не плывет. Он — смерть.
И только звезды живут, потому что вращаются вокруг всего. Вокруг пуговицы лодочника.
А пуговица и есть пуп Вселенной. Только она об этом не знает. Потому что она
мертва и притягивает к себе. К смерти. Вот такая чушь. Ха-ха-ха-ха. Грустно".
"Демагог. Сегодня бал в Кремле. Поп-звезды. Ростропович. Другие. Будет
клево и классно". Я и не подозревал, чем это закончится. А Сашка, вернее
— Александр Шаляпин — обитал тогда на верхних этажах Останкинской телебашни,
которые подарил ему мэр. Питался в своем ресторане "Седьмое небо",
имел свою программу на первом канале и плевал на мир с высоты птичьего полета.
Иногда он любил поразвлечься и спускался на грешную землю не на лифте, а
на парашюте, врубая при этом во всю мощь фонограмму записи падающей авиабомбы,
пугая мирных граждан и членов кабинета министров. Еще он любил ночные салюты
по понедельникам.
"Все это ерунда и мишура. Жестянка для аборигенов. Жвачка от кариеса",
— язвил он.
* * * * *
Бал был бал. Игра слов. "Слив" по-украински. Сплошной выпендреж
перед друг другом и перед самим собой. Игра слов, снобизма, тщеславий и недалекости.
"Чем-то тут попахивает, — удивлялся Алик. — Как, однако, быстро портятся
продукты, если их вовремя не положить в холодильник!"
Я спросил, о чем это он. Сашка не ответил. Сашке было скучно и хотелось блевать.
Пару раз я водил его в туалет. Сашка почему-то упорно стремился попасть в женский.
Пока никто не возмущался, а наоборот, положительно ухмылялись. К середине бала
Сашка, наконец, разошелся. Он обнимал и целовал взасос всех подряд. Его сильно
любили и выкаблучивались перед ним, как только могли. Особенно звездочки. Сашка
был страшно доволен. Я долго и тщетно оттаскивал его от подиума, но в конце
концов он взобрался на него, изобразил в стельку пьяного и пописал на сцене.
И имел огромный успех. Все приторно сладко улыбались и восклицали: "Ах,
эксцентрик! Ах, прорыв в будущее! Ах, новое мышление! Ах, наш (ну не Господь
же Бог, в конце концов!)!.." Алик мерзко хихикал. Мне казалось, захоти
он прямо сейчас, на сцене, в этом чаду и кураже, кого угодно, ему бы отдались
с артистическим мастерством. И подобрали бы внутренние и внешние, научные и
мистические обоснования нововведению. И самые престижные назавтра, на каждом
тусовочном углу мочились бы и трахались, придавая этому высокоэстетический
вкус. « Эх, Льва Николаевича на вас нет!» -рубанул Сашка и выпил шампанского.
После пива, виски с содовой, коньяка, арманьяка, джина, «Кагора», сакэ, коктейля
«Дорогая моя столица» и граненного стакана самой дешевой водки, пахнувшей мазутом,
которую загодя приготовили для него, зная его простые вкусы.
Я выпил немного меньше и поэтому приставал к Саньке.
"Ты можешь диктовать им свои условия! — внушал ему я. — Они на все согласны.
Поведи их за собой. Научи жить по-твоему. Не упусти... Преврати их в людей. Это
священная задача, которую возложил на тебя Всевышний".
"Иди ты со своим Всевышним! — Отвечал Сашка. — Они и так уже люди... И это
я не ему, —он поднял глаза к верху, — а тебе, дурачку... Не обижайся".
Он обнял меня и заплакал пьяными слезами.
В последнее время у меня наладились отношения с религией. Я пописывал стишки. "Подписывал",
— язвил Алька. Я стал довольно удачливым и в меру популярным поэтом-песенником. "Полу-полярным
поэтому есенинковым!" — тоже его острота.
На балу было много и достойных девушек. С одной из них я познакомился во
время танца. Это была моя будущая жена. Звали ее Тони.
"Тоня? Антонина?" — переспросил я.
"Тони!" — поправила она и защебетала на модный американский манер радио-диск-жокеев,
у них во рту вместо дикции каша, которая, судя по всему, им очень по вкусу. Но
меня это не смущало. Тони была милая девушка. "С акцентом пустоты",
— напоминал Сашка.
"Я очень умная и люблю веселиться!" — возражала Тони.
"Ага. Чтобы не думать, — парировал Санька. — Твоя правда. Голова создана
для шампуней и лаков для волос".
Я чуть не обиделся. Но Тони была молодец и пропускала все мимо ушей. Очаровательных
розовых ушек. Сашка запихнул себе в рот дюжину разных сандвичей (по-нашему
— бутербродов, хотя тоже по-немецки) и двинулся вдоль столов знакомиться и
пережевывать.
"Как интересно и необычно, изумительно и великолепно!" — воскликнула
Тони, зыркая глазами. Она была польщена знакомством с Сашкой. И я его тут же
простил.
На сцене опять валяли дурака, притом делали это профессионально. Ростропович,
оказывается, не приехал. Он с Вишневской был в Алма-Ата. Оркестром дирижировал
какой-то мужик. Все утешились показом топ-моделей. Потом поминали кого-то минутой
молчания. Немногие успели дожевать и старались неслышно сглатывать. Следом
начался стриптиз. Подарки от спонсоров. И продолжение банкета. Тусовка была
что надо. Но не нам с Аликом. Мы подхватили Тони и смылись из зала вместе с
несколькими бутылками коньяка и парой пакетов закуски. Сели в мерседес и поехали
кататься. Сашка все орал: "В номера!.. К "Яру"!" В гостинице "Советской" мы
поступили как древние римляне во время трапезы, приняли душ (что было историей:
Тони по простоте душевной решила, что, мол, "пора", с двумя так с
двумя, но мы решили иначе, мы были старой закалки романтики и еще верили в "чистую"),
закатили гудеж в ресторане, заглянули к цыганам в "Ромэн", Сашка
со Сличенко наперебой пели романсы; Сашке Сличенко ужасно понравился, он расцеловал
его с чувством и подарил Большой Театр, но Григорович по телефону был против,
тогда Сашка связался с Пеле и быстренько устроил театру "Ромэн" турне
по солнечной Бразилии. Потом мы распрощались с этими славными людьми и поехали
в "Седьмое Небо", по дороге набирая попутчиков, клюнувших на "халяву".
Доехали туда на слонах, взятых в цирке напрокат. Лифт не работал, а слоны не
летали. Сашка заказал воздушный шар, который тут же подвезли и надули, и усадил
туда всех халявщиков (вернее, загнал пинками). И они полетели. Но не попали
в башню, а пронеслись левее, навстречу занимающемуся рассвету. А мы с Сашкой
каким-то образом остались на земле. Я думаю, Сашка это подстроил. Тони махала
мне рукой и что-то кричала. Будущую жену я потерял.
Сашка смотрел им вслед, пока они не растворились в небе, а потом спокойно и
совершенно трезво сказал:
"Они идут на северо-восток. Если ветер не переменится, через неделю будут
над Баренцевым морем. А там до полюса — рукой подать".
"Ах ты лицемерная дрянь! — грозно сказал я и схватил его за грудки. —Верни
мне мою будущую жену Тони!.."
"Ничего, — дружески сказал Сашка. — Найдешь себе другую".
И вот тут я затаил смертельную обиду. Вот тут наша льдина дала трещину. Я захотел
убить Саньку. Конечно, я об этом скоро забыл. Но желание это не забыло меня.
"Я хочу с тобой поговорить, — серьезно сказал Алик, — В тишине. И чтоб никого.
И дым от костра".
"Валяй, — кивнул я и понял, что мне до смерти нужен Царь, или я упаду на
эту землю и буду рыдать. Вечно рыдать, пока все не отплачу. — Алька, помнишь
Царя?"
"Помню, — усмехнулся Сашка. — Он был прав. Разве так лётают?"
— ЦАРЬ!!!
* * * * *
Продолжение
БАЙКИ ПРО СЛЕПОГО И ФЕЮ.
Посох стал и Другом, и Богом, и Светом для него…
Долго он бродил по темному, по лесу,
Проклинал и ненавидел белый свет.
Как-то фею повстречал у бурелома:
- Так за что мне наказанье это, фея, дай ответ!
Исцели меня, прошу, я отомщу всем
За обиды, да за горькие мои…
- Обогрейся у костра, - сказала фея. –
Я сниму с тебя заклятье, если хочешь.
- Я? Конечно, я хочу, и больше жизни!
Темный лес мне встал поперек горла,
А потом поймаю лешего и вздерну
На осиновой на ветке, на макушке!
- Больше жизни? – вопрошала его фея, -
Но смотри, расстаться нужно с лучшим другом.
Посох брось свой и смотри вокруг глазами.
Будет больно, потерпи, пройдет и это…
Задрожал тут Посох в руке Старца.
Он седой уж был, и немощен, и болен.
Будет больно, говоришь, и будет страшно?
Как без посоха стоять мне во пустыне!
Все ж решился он, отбросил верный Посох.
Свет скользнул в его глаза златою искрой.
Стало больно, а еще по-пуще – страшно.
Закричал Слепой:
- Верни мово мне Друга!
Не хочу, ведь я привык, что всюду темень.
А надежа-Посох – друг мой ненаглядный!
Пусть умру и не увижу бела-света,
Но зато умру спокойный и нормальный…
И ему на это фея отвечала:
Будь по-твоему. Тебе помочь хотела.
Улетела, а Слепой побрел по лесу,
Проклиная фею всей душою…
"Стоп, — сказал Сашка и подбросил дров в костер. — Он остался цел.
Он не совратился. Душа его покойна".
"Желать того, чего тебе не дано — грех!" — сумничал я.
"А дано — все! — вдруг бешено закричал Алик. — Но нам удобней здесь, в консервах!"
"Вскрыть изнутри консервы невозможно!" — непоколебимо ответствовал
я. — "Больно на тебя смотреть!"— "Не смотри". — "Олух
царя небесного!" — "Я говорю — не смотри... Чтоб не расстраиваться".
— "Нет, буду. Хоть и больно. Потому что хочу знать — почему!" — "Потому.
Тебе плевать на людей. Плевать на меня, на Тони! Копаешься в себе — копайся,
пожалуйста, но не трогай других!.." — "Ага! Да я же тебе добро сделал,
как ты не сечешь?" — "Я сам знаю, что добро..." — "Ошибаешься.
Эта пустая надутая кукла..." — "Она тоже человек". — "Вот
в том то и дело, что все вы люди..." — "Не трогай ее, а не то..." — "Что
не то?.." — "Я убью тебя!"
"Убей, мне сразу легче станет...
Все равно, когда-то смерть меня достанет".
"Ты не бог, а ты, как мы, простой, из смертных.
Не блуждай напрасно в сумерках вечерних..."
"Нет, я буду, и когда наступит утро,
Оно высветит лишь то, что цельно, мудро..."
"Жди утра, а я посплю тогда немного.
Не спросив согласья у тебя, у Бога..."
Мы уставились друг на друга. Ржач был неистовый. Медведи и волки в округе,
наверно, все перевелись от разрыва сердца. Луна ошалело пялилась в нашу сторону.
Рыба сходила с ума и выбрасывалась на берег. Мы сварганили уху, допили под
нее коньяк (оставив бутылочку на утро) и улеглись спать на кедровые ветки.
Было хорошо, комаров не было, леших тоже, забегала на тлеющий огонек какая-то
собака, слопала остатки еды и ускакала в ночь, топоча как конь. По характерному
чавканью я догадался, что это была собака Евка. Хотел позвать ее, да было поздно
и лень. Кто с ней ходит в такую рань, подумалось мне, но я тут же выкинул эту
мысль из головы. Ходит так ходит. Значит так нужно. Алик болтал про звезды
и иные миры, и я будто вернулся в свои мальчишеские годы. А потом он повернулся
набок и протянул сонным голосом:
— Я поехал. Догоняй...
— Куда?
Но он уже дрых. Ответа не требовалось. Я знал — куда. В страну сновидений.
— Догоня-а-у...
"Царь, это все Царь..." Я никак не мог вспомнить его лица. А может,
это всего лишь наша с Аликом детская выдумка.
"Сегодня ты не убил его", — сказал я себе и заснул.
* * * * *
Мне скоро стукнет, бабахнет, шарахнет, звякнет девяносто лет. Плаванье моего
ковчега приближается к неведомым берегам. На черно-алых льдинах мимо борта
проплывают, странные в разноцветных ярких одеждах фигуры. Наверное, представители
разных религий и течений. Да, течений в Океане множество. Как знать, поплыл
ли ты по верному или тебя унесло не туда.
Тяжко, зной, солнечные блики, как горячая картечь.
"Все пути ведут в Смерть", — перефразировал как-то Сашка.
Я не поспеваю за мыслью. Слова ничего не стоят, если в них нет опыта и сердца.
Опыта сердца. Сердечного опыта.
О чем это я? Папиросный туман памяти окутывает мои мозги. Надо ничего не упустить,
ничего не перепутать, пока Господь дарует мне время. Я не биограф, я — счетно-вычислительная
машина. Я ничего не записываю, я все посылаю в Вечность, туда, где он. Попробую
вкратце изложить события, которые случились с ним и со мной за последнее тысячелетие.
Так как энергия, поиск истины, неудовлетворенность достигнутым у этого человека,
бывшего моего друга, были неисчерпаемы, то и сила, и масштабность их применения
не находили себе равных во всей истории человечества, и, надеюсь, никогда не
найдут. Меня часто пронзает невероятная мысль: а не был ли Сашка самим Федором
Шаляпиным, великим певцом, своим внебрачным сыном и внуком одновременно? Алик
метался, и я не понимал, как ему было гибельно плохо. И чего он возжелал всем
своим существом. Он возжелал невозможного, как Калигула — Луну. Сашке луны
было мало. Ему подавай всю Вселенную, а сам он... Впрочем, вряд ли... Богом
он не желал быть, и мучился из-за славы, и страдал, и мучил тех, кто его славил.
Только теперь я немного понимаю, чего он истинно хотел. Он хотел, чтобы и я,
и ты, и мы — все были непохожими, умными, добрыми, красивыми и талантливыми.
Чтобы мы не были толпой, любой толпой — серой или разноцветной, коллективом
или тусовкой, по моде или по вере, чтоб мы были самими собой, и чтобы не останавливались
до конца своих дней на каком-нибудь полустанке и не ехали по кольцу. Чтобы
мы жили...
КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ.
1. Испытания первого русского звездолета, названного в честь Сашки, — "Александром
Шаляпиным". Экипаж составляли: какая-то неизвестная Сашкина подруга,
он сам как капитан, и его любимая собака Евка, которую я неоднократно упоминал.
Высокая комиссия от ООН наделила Сашку всеми полномочиями, как человека и
личность, представляющего планету Земля. Сашка улетел. Двадцать лет от них
не было ни слуху, ни духу. Но через двадцать лет они вернулись от какой-то
там Альфы какого-то там созвездия. Он не привез ничего, кроме седой головы.
Говорит, всю дорогу тренировался. Его наградили еще посмертно и понаставили
бюстов и памятников, но так как он остался жив, награды отобрали и памятники
снесли. Сашка не обиделся. Он, правда, немного изменился. Или что-то там
увидел, о чем молчит, или двадцать лет добровольного заключения дали о себе
знать. Я отговаривал его от полета, но разве Сашку отговоришь, если дело
касается всего человечества?
Кстати, он почти перестал играть. А все больше усердствовал на поприще Председателя
Всемирной Футбольной Лиги.
2. Я разыскал-таки свою будущую жену Тони. Они не улетели тогда дальше Вологды.
В Вологде я ее и нашел. Помню, даже стихи для песни написал: "В Вологде,
в Вологде, в Вологде-где. В доме, где лесной палисад..." Ее исполнял,
и очень успешно, какой-то то ли английский, то ли американский ансамбль. Психоделическим
стилем. Джаггер, кажется.
Но о покойниках плохо не говорят.
3. Сашкино восстание в Индии против британских колонизаторов. Говорят, он был
знаком с Немо. А может, он и сам был этим Немо. Сашка молчит об этом. Вообще,
он стал больше молчать. Увлекся йогой, буддизмом, часто дискутировал с Неру
в частной переписке.
Ультиматум ЮАР. Те согласились выполнить условия. Лумумбу освободили.
4. Беда. У меня родился сын. Назвал его Александром, в честь Сашки. И тут разыгралась
драма, поставившая на карту нашу семейную жизнь с Тони. В порыве страсти она
призналась мне, что несколько лет назад, еще до того, как я ее нашел, Сашка
вычислил ее, соблазнил, бросил, а напоследок сказал: "Сына назовешь Санькой."
Это произошло давно, но от него всего можно ожидать. Я вспомнил свое тайное
желание.
5. Сашка пять лет был диктатором на каком-то острове. Как он дошел до такой
жизни, не представляю... Я не виделся и не перезванивался с ним. Он весь в
конвульсиях. Рождает из себя чудовище. Но я-то его знаю. Он — тихая мелодия.
Про Царя не вспоминаем.
6. Сашка присутствует на Машуке в качестве секунданта Лермонтова. Он закрыл
ему глаза. Мартынова с тех пор люто ненавидит. На Кавказской Войне не получил
ни царапины, хотя специально бросался под пули. Приехал с войны черный. Но
быстро отошел. Дружил с поэтами, заступался за них перед царем. Пушкин обожал
его. Но впоследствии они разошлись. Пушкин сжег все бумаги, в которых хоть
мельком упоминался Санька. Я думаю, без женщины тут не обошлось.
7. Война с персами. Фермопилы. Марафонское сражение. Победитель Олимпийских
Игр. Сашка стал качком, отрастил бороду. Зевс смахивает на Сашку.
8. Ходят слухи, что он умер, нет, погиб, нет, покончил жизнь самоубийством.
Сашка не такой. Он танцует со Смертью.
9. Поход Чингиз-хана. Не верю. К тому же есть легенда, что Чингиз был блондином.
Хотя... Сашка мог перекраситься. Мог... Увижу ли я его?..
10. Он исчез... Просто исчез. В апогее славы и почета. Деньги раздал беженцам
и детям, что-то накинул на себя и исчез... Где он теперь? Встретил на днях
в подземном переходе грязного бомжа-попрошайку, очень похож на Сашку. Долго
гнался за ним, звал, пока меня не задержала милиция. Обращались грубо, потом
узнали, что я друг Сашки, объяснились, отпустили. Оказывается, бомж — никакой
не бомж, а переодетый сотрудник спецслужб, что-то вынюхивающий в подземке.
А что именно — секрет. Я извинился.
11. Революция на Кубе. Нет, не он. Не его почерк. Тогда почему Фидель Кастро
- Русс?
12. Я вышел на пенсию. Пенсии хватает на самый скромный рацион. Собираю бутылки.
Пробовал просить, не получается. Стыдно. Но иногда, улучив момент, подъедаю
за каким-нибудь порядочным человеком в нашей "Пышечной". Меня уже
знают и зачастую хлеб, салат и компот дают бесплатно. И называют ласково: "Интеллигентик
ты наш бедненький". Да, я похож на интеллигента. Одежда чистая и аккуратно
залатанная. И еще очки.
Жена меня давно бросила и сбежала с сынишкой к новому русскому. Учит английский.
Сын в Америке. Он для меня потерян. Да и я не хочу, чтоб он узнал про бедность
своего отца. Пусть лучше так.
Сашка... Сашка часто снится молодым и веселым.
13. Старею не по дням, а по часам. Пенсия идет на лекарства.
Тут случилась радость. Вспомнили обо мне. Надели фрак, пригласили на сейшен.
Девочки длинноногие меня обнимали и целовали. Называли уважаемые люди: "Наш
мэтр". Спел под фоно свою старую песенку. Подарили пылесос, правда, у
меня ковром как не пахло, так и не пахнет. Мы с Сашкой всегда были аскеты.
Но приятно, черт возьми!
Вернуть бы молодость! А, впрочем, зачем? Все и так хорошо.
Сашка не объявляется.
Приглашал Ельцин. Вспоминал, как они с Сашкой стояли на танке в девяносто первом,
в августе, во время Путча. Сашке предлагали важный пост. Но он отказался. На
фиг ему нужна эта власть... Он себя хотел найти, иметь власть над собой...
Выпили по рюмочке, попросил Борис Николаевич совета в сложном вопросе, приглашал
заходить, сыграть партию в теннис, но я уже не в той форме, вот если бы Санька.
Ему наверняка все еще тридцатник. Меня проводили. Усадили в ЗИЛ. Дали персональную
пенсию. Растрогался до слез.
Я хохотал весь вечер, вспоминая, как Сашку умоляло все Политбюро во главе с
Андроповым стать генсеком. Но Сашке надо было строить газопровод и он укатил
на Север. Жил в балке, потом в первой квартире первого дома. Морозы были —
жуть. Карское море, тундра да медведи... В Антарктиде было теплее. Они там
с Сенкевичем зимовали.
Царя почти забыл. Сашкино лицо едва припоминаю. Какой он?
Сто лет. "Сто лет одиночества". Друг мой, отзовись! Тоскливо и
пусто без тебя. Жизнь утекает вялым ручейком в безбрежные просторы Смерти.
Что ждет меня? Что прожил я? Своего нет. Приезжай, разожжем костер на берегу
Истры, поджарим шашлычков, запечем картошку, лука у меня, слава богу, хватает.
Разопьем бутылочку. Если будет мало — еще одну, а то и две. Вспомним былые
денечки. Приезжай, я тебе все простил. Простил ли ты меня? Фигня это все,
Санька. Нет никого на свете, кроме тебя и меня. И плевать, что я второй,
а ты первый. Разве это важно... Перед заходом своего солнца начинаешь понимать
главное. И обидно — почему только тогда? Вся жизнь, как нелепое нагромождение
ошибок, хлопот, подозрений. Вся наша жадная праздность не стоит ни гроша.
Стоим лишь ты и я. Ни утехи, ни потехи, ни похоть не оставляют ничего, кроме
пустоты и срама. Дух мой, не покидай меня. Тело мне почти уже не служит,
послужи хоть ты. Надеюсь, что я не был так глуп и совершил больше доброго,
чем злого. Прости меня, Бог. Простите все, кого я незаслуженно обидел. Прости,
Царь. Прощай, Сашка...
"Нет, и не смей! — Алик врывается как угорелый. — Ты что это задумал,
старый хрен? Не спать! "Прости мя, прости мя", — хныкалка несчастный".
"Санька, где ты был?" — бормочу я, и чувствую как слезы катятся по
щекам.
"Где, где, нигде, — передразнивает Сашка, рывком поднимает меня с кресла
и командует. — На кухню!"
Он бодрый, молодой, загорелый.
"Где мой сын? — орет он. — Куда вы его сховали?"
Я рассказываю ему свою древнюю грустную историю.
Сашка хохочет.
"Ну ничего. Увидишь его, обещаю. Да тобой гордиться надо, друг и брат мой!"
"Брат?" — опупеваю я.
"А как же, фраер, — говорит Санька и дает мне подзатыльника. — Мы еще нужны,
Серега. Я был на волосок от Истины, но оказалось — ошибся, не с той стороны обхватил...
Мне нужен Царь!" — орет он прямо мне в ухо. "Царь?" — никак не
приду в себя я. "Никак не придешь в себя ты! — тычет он в меня пальцем,
— Ты что, Царя забыл?"
Тут я окончательно его узнаю и просыпаюсь.
"Алик?" — "Ага, я". — "Живой?"
Санька ощупывает себя: "Вроде..." — "Где ты шлялся, придурок?" — "Теперь
узнаю тебя". — "Черт тебя побери!" — "Чур, чур, черта попрошу
не упоминать! И Бога тоже, всуе..."
Мы переходим на нормальный диалог.
—О твоих подвигах наслышан, — говорю я.
— Ну и что? — развязно заявляет Санька.
— Я хотел тебя убить.
— Ну?
— Ну и простил...
Сашка смеется.
— Хорошо, а то я уж испугался. Видишь, сколько скрывался от тебя?
—Где?
— В пустыне. Сперва в монастыре. Потом в пустыне.
— Отшельником...
— Им... Им... Все, что положено. Власяница, вериги, хлеб да вода, чудо было...
— Ты так об этом говоришь...
— А как? Если б я говорил иначе, ты не поверил бы мне или посчитал меня религиозным
идиотом. Он, — Сашка указывает в потолок, — Любит умников. — И сладко улыбается.
— Доволен? — спрашиваю я. — Отвел душеньку?
— Почти, — внезапно нахмурился он.
— Чудо было? Какое чудо?
— Ну что ты как девица какая! — вспыхивает Сашка. — Все тебе надо знать. Понять
просто так не можешь?
— Не могу. Стар стал. Стар и глуп.
— И сентиментален, — добавляет он. — Ладно, не обижайся, расскажу уж.
И он рассказал. Это было так невообразимо. Так цинично и подло по отношению
к моей вере! Обычная хохмаческая историйка этого придурка, который гоняется
за своей тенью. Или хвостом.
В общем, с Сашкиных слов, дело было так. (Алик рассказывал, а сам от смеха
надрывался. Вот сволочь, это же свято. "Да не в этом святота-то!" —
издевался он.)
РАССКАЗ САШКИ ШАЛЯПИНА
"КАК Я ШЛЯЛСЯ ПО ПУСТЫНЕ"
Совсем у меня крыша поехала
От жизни-то от мирской.
Понял я, что дьявол завладел мной,
И решился я спастися.
Ушел в монашескую келью,
Пост держал, молился я,
Лоб себе отбиваючи,
Обет молчания соблюдаючи.
Но не поборол я диавола,
Рвал он меня на кусочечки.
Жизни хотелось вольной мне —
Дух во мне был очень слабенький.
И пошел тогда к Старцу совета просить.
Мужик мудрый, что и говорить, без слов меня понял.
"Попробуй, поскитайся. Бог тебе подскажет".
И ушел я в тоске в пустыню.
Два года скитался, ничем не питался,
Бил себя нещадно, истощал — только сильнее стал.
И однажды ночью было мне видение:
Лик сияющий, а в нем — Любовь.
Стало мне тепло и очень радостно.
А он мне говорит: "Чего ты радуешься?
Хватит по пустыне болтати, саксаулы обивати!
У тебя руки-ноги созданы для мячика.
Футбол сейчас важней всего на свете этом,
Да и на том он тоже пригоди-и-тся...
Как придешь ко мне, так мы полётаем..."
"Так и сказал?"
"Вот точно так, истинный крест!" — и он показно перекрестился. Это
было последней каплей.
"Ты все опошляешь! — крикнул я — Даже самое святое!"
"Да истинная правда, вот крест ведь!"
"Не плюй мне в душу... Всему есть предел!"
"Ах, ты болван оболваненный!" — в сердцах бросил он.
И тут мы впервые подрались.
Не помню, кто начал первым. Наверное, я. Может, все обиды, все оскорбления
и унижения, которые я безропотно сносил от него, разом вырвались наружу. Я
был, наверно, некрасив тогда.
"Ублюдок! — брызгал я слюной, тыкая своими старческими кулачками ему в грудь.
— Ты исковеркал мне всю жизнь. Убью тебя, подонок!"
В этом было, скорее, что-то женское. Что-то от супружеской пары, причем в роли
супруги выступал я.
Сашка был прав, я не знал еще об этом, я и в самом деле мог его убить. Я был
не в себе. Глаза заволокло чем-то серым. В порыве я схватил большой кухонный
нож, но воспользоваться им не успел. Сашка врезал мне хука. Я полетел назад
и угодил в дверь. Дверная ручка больно воткнулась мне под лопатку.
"Да ты еще и боксер", — злобно прошипел я, оседая на пол.
"Прости, — спокойно ответил Сашка. — Так надо было. Ты мог помешать".
"Чему?" — хотел было спросить я, но Сашка врезал мне еще раз, и я потерял
сознание.
С возвращеньицем, Алик!
* * * * *
2001-й год. Сашка развил архи-активную деятельность на планете Земля. Организовал
Комитет по спасению Наций. Явно нечестным образом, за каких-то три года стал
самым богатым человеком на земле. Меня не раз он пытался устроить к себе,
обещал златые горы и лучшие курорты, но я дал ему от ворот поворот. Впрочем,
лечебную помощь я принял.
Я часто пытался вызвать Царя в одиночку. Но ничего не получалось.
Умирать я раздумал, а сел писать книгу. Не про Сашку, а про свою горькую поучительную
для потомков Судьбу. Меня приглашали на всякие мероприятия, но я всех посылал
подальше. Хватит! Хватит никчемного времяпровождения, человек должен быть устремлен
к одной цели. И моя цель была — книга.
Сашка в это время бросил всю свою финансовую мощь на возрождение культуры и
природы. Культура и Природа были спасены, а Сашка разорился.
Я часто выступал против него. Называл Сашку графоманом и бездарем с непомерными
амбициями. Говорил, что он загубит и природу, и культуру, и всех нас, и прежде
всего — самого себя. Но все выходило наоборот. И я от этого еще пуще злился.
"Вот подкараулю его в тихом месте, — фантазировал я. — И стукну чем-нибудь
тяжелым по башке!"
Это были, конечно, пустые мечты, но гордыня моя тешилась ими.
Время шло. Сашка ходил под моими окнами, умолял впустить, пропустить по рюмочке,
но я был неумолим. Он перестал ходить, а занялся опять футболом. И оставался
старейшим и непревзойденным вратарем, живой легендой. Я фыркал, читая об его
успехах то там, то сям. Потом узнал, что он женился. Нашел себе, наверное,
подходящую дуру, вроде меня. Услышал, что развелся. Искалечил человеку жизнь,
ловелас.
Мне перевалило за сто пятьдесят. Я с ускорением качу с горы в санках и хохочу
в ожидании конца, которого не видно.
Сашка снова пропал. Исчезающий ты наш. Человек-невидимка. Искатель истины.
Мухомор. Отец народов.
Я плакал, когда вспоминал, как он играл за ящик тушенки.
"Гадкая ты душонка, — говорил я. — У тебя не душа — тушенка. Продешевил
— продешевился. За деньги душу продал... И дружбу!" — в справедливом гневе
заканчивал я. И ставил точку. Нет, восклицательный знак. Нет, три восклицательных
знака. Тысячу! Миллион!
На Земле ничего не происходит. Сашка все упорядочил настолько, что противно.
Все сытые, культурные, довольные гуляют на лоне возрожденной природы. Эх,
вас бы в наше время, сопляки недоношенные. Все вы ноете, то вам в мороженое
не то положили, то брючки вчера были модные, а сегодня нет. Трагедь! Вырождаются
люди. Ушло безвозвратно время личностей. Они даже на драму сейчас не способны.
Никаких больших чувств, все по-потребительски мелко и серо. Да и откуда чему
взяться. Все хорошо. Все стра-а-ашно хорошо. Жуть.
Объявился Алик. Счастливый. Приперся ко мне с бутылкой водки. Водку, слава
богу, еще пить не разучились. И еще с одной маленькой бутылочкой неизвестно
чего. Лекарство, наверное. Задабривать меня будет.
Я его впустил на порог. Но не дальше. Оказывается, эти годы он пребывал на
Тибете. "В Шамбале!" — таинственно и радостно сообщил он.
"Ну что... Жил, учился. Учителя там, я тебе скажу, что надо..."
"Мне не надо!" — обрубаю я.
"Ну, ты ведешь себя, как старая стерва..."
"Пусть старая. Не бойся, скоро ноги протяну, тебе легче станет".
Он с интересом смотрит на меня,
"Серега, брось. Дело серьезное, касается только нас двоих. Ближе тебя у
меня нет никого".
"Конечно", — киваю я.
"Нет, нет, — морщится Сашка, — Это голимая правда. Тебя и сына..."
"Вот сволочь!", — думаю и делаю шаг к двери, собираясь выпроводить
незванного гостя.
"Постой! — Сашка хватает меня. Я отдергиваю руку. — Не обижайся, я был молод
и дурак, многого не понимал и грешил, конечно... Но я не об этом. Все началось
с той германской войны и ящика тушенки, помнишь, и с той немки, не блондинки,
а брюнетки... Как ее?.."
"Генриетта", — цежу я.
"Улыбнись! Генриетта, помню. Хорошая была девчонка. А газета скверная. Лётай,
Сайка, помнишь?" — он лыбится во всю ивановскую, но меня не прошибешь.
"Так вот, — продолжает Алик. — Ты знаешь, я всегда многого хотел и всегда
всего мне было мало. Это часто подводило меня. Но я чувствовал печенкой, что
в мире что-то не так. Помнишь, Высоцкого: "нет, ребята, все не так, все
не так, как надо..." Умница был какой. Ну да ладно. Мы с ним еще увидимся.
Так, Владимир Семеныч?" — бросает он в воздух. И застает меня врасплох.
Я потерял бдительность. Сашка не преминул этим воспользоваться.
"Так вот, Сережа, искал я эту истину и найти не мог. А один мудрец, там,
в Шамбале, сильно полюбил меня, не знаю за что..."
"Шельма..."
"И перед самой смертью поговорил со мной. Оказывается, он изобрел эликсир
вечной молодости. Но людям отдать не захотел. Не сумел и на себе испытать. Он
одинок, у него нет друга кроме гор и неба, так вот, он сказал, что видит во мне
такого человека, с кем можно выпить эликсир. Есть только две порции. И действует
он только тогда, когда два самых близких человека чокнутся рюмками и одновременно
его выпьют. Это не сказка, зуб даю. Я, конечно, очень хотел помочь ему, но без
тебя... Сам понимаешь. Он это сразу просек. "У тебя есть друг, настоящий
друг?" Я кивнул. Тогда он протянул мне эту склянку и сказал: "Бери.
Вам это нужней. Может, это не Истина, но попробуй и ее..." "А ты?" Он
не ответил, а облегченно вздохнул, закрыл глаза и умер. Наверно, ему стало очень
хорошо. Я понимаю..."
"Нет", — резко говорю я.
"Что?" — переспрашивает Алька.
"Нет", — твердо повторяю я.
Он долго и печально смотрит на меня. Потом пожимает плечами.
"Ну что ж, на нет и суда нет", — спокойно распечатывает бутылку водки,
раскручивает ее и заливает содержимое в себя.
"Нет так нет", — повторяет он уже опьяневшим голосом, размахивается
и разбивает об пол пузырек с эликсиром.
"Все, — говорит Саня, — Чао, бомбино!"
И нетвердым шагом идет к двери.
У меня сердце взрывается внутри.
"Прости, — скулю я. — Погоди..."
Со своей бутылкой водки я проделываю то же самое.
Мы стоим в стельку пьяные и молча смотрим друг на друга.
"Ой, какие же мы мудаки!" — кричит радостно Саня.
"Я еще хуже!." — прерываю я его.
Мы идем на кухню, закуриваем, а потом, не сговариваясь, вопим:
— Царь!!!
* * * * *
Смерть Саньки была непредсказуема, абсурдна, и в тоже время совершенно логична.
По ней, по Саниной логике. Но об этом чуть позже. Сначала о самом главном,
о Санином могучем футбольном предназначении для судеб народов, планет, а
может и всей Вселенной. О смысле его красивой и несчастливой жизни, который
он безуспешно искал.
Я говорю не из желания посмертно оправдать или возвеличить его, не ради красного
словца, а из стремления говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды...
Санька мечтал победить смерть, и он ее победил...
ИСТОРИЯ ДЛЯ ТОСТА.
Жил в одном восточном монастыре монах. Жил, не тужил, ледяную воду пил,
обучался искусству восточных единоборств. В общем, хороший был. Бывало не
смущался, правду-матку резал самому алтайскому императору.
Но произошла как-то с ним удивительная история. Дело было летом. Духотища стояла,
аж камни потом покрывались. При такой душегубке спать, сами понимаете как.
Обливаться все время хочется, пить. А еще вышел по монастырю приказ — двести
грамм на брата (воды, разумеется) в день и ни капли больше, для воспитания
духа, значит. Монах наш был силен духом, для него все это были цветочки, понимаешь,
сох, а терпел, уже кожей хрустел, а терпел, уже тенью стал, а терпел все ж.
Из монастыря все уже сбегли, не выдержали, значит, он один остался, но сдаваться
не желал. И решили злые духи хитростью его взять. Ни живым, ни мертвым, а тепленьким,
сонным, в состоянии дремы, по-научному сказать — лунатизма. В ту ночь на небе
была полная, аж багровая луна. Монастырь стоял на пригорке, а внизу, в лощине,
рощица тенистая, а посреди рощицы ключ подземный бил. И ручейком тек ледяным.
Температура летняя была ему нипочем. Деревья укрывали его от солнца, а он в
свою очередь деревьям помогал водой. Так и жили они издавна, душа в душу. И
звери приходили напиться, и никто не трогал никого — ибо знали, вода одна на
всех, и нельзя осквернять ее кровью — испортится.
Так вот. Духота стояла, ни ветерка. Луна бьет в глаз, как солнце. Спит себе
монах в келенке своей, кошмары его мучат, бредит. Пить хочет. А во сне не может
он духу своего сдержать, дух, значит, весь и вышел полетать. Овладели его телом
другие злые духи и повели, как на ниточках, к водопою. Спустился монах в лощинку,
подошел к ручью, напился вдоволь. И проснулся. Сперва рассердился на свой дух,
а потом ощутил такое блаженство от воды, что весь облился и пригубил еще ведра
два. За все, значит, время выдержки. И показалась ему вода такой вкусной, такой
сладкой, что лучше и нет на всем свете белом. И понял он, что не зря терпел,
что иначе не вкусил бы такого волшебства. Махнул рукой и лег тут же, в тенечке,
до утра отдыхать. А духи-то злые только руки потирали. Оставалось всего денька
два, и не смогли бы они тогда завладеть монашеской душою. Слишком бы силен
он был. Ну а теперь все, пропал монах. Они ж, эти духи, больше всего именно
на таких людей кидаются, на тех, кто посильнее других- духом. Уж больно добыча
для них ценная.
Наступило утро, проснулся монах, потянулся всеми сухожилиями, нагнулся к воде,
чтоб напиться, и краем глаза заметил, у истока ручья что-то черное виднеется.
Подошел монах, глянул и ахнул. У самого места, где ключ из-под земли бьет,
по течению, значит, лежит тело мертвое убиенной собаки, а от него мутные потоки
гниения по ручью катятся.
Понял монах, какую воду ночью-то пил. И почему она сладкая была. Да не мог
судить того, кто запрет нарушил и убил собаку, решив над всеми покуражиться,
злобу свою вынести. Ибо сам он такой же запачканный был. Потому как обет нарушил.
И воду испорченную пил. И побрел монах наугад, куда глаза глядят, да не видел
он ничего.
Говорят, встречали его года три спустя в одном китайском трактире, грязного,
опустившегося, пьяного. Все китайскую копеечку просил.
Царь.
* * * * *
"Так выпьем же за непобедимый дух нашенский!" — рявкнул Санька,
и тут его прервали. Просигналил видеофон личной связи. Только у Сашки был
такой, да у Генерального Секретаря ООН.
"Дела", — сказал Сашка, не спеша допил свой стакан, смачно закусил
и нажал кнопку ответа.
На экране высветились суровые всечеловеческие лица: лицо Генерального Секретаря
ООН, лицо президента России, лицо президента США, лицо президента Китая, Египта
и лица остального мира, включая лицо Папы римского.
— Дело скверное, Саня, — сказал Генеральный Секретарь.
Саня закусил губу и ответил:
— Через час буду. Только с другом прикончим флакон.
— Ждем! — гаркнули все президенты всех стран.
— Видать, что-то очень важное, Серега, — сказал Саня, разливая по новой, —
Чую, мой час пробил. А я его столько ждал.
— Наконец-то, — съязвил я.
Никто в то время и не подозревал, какая зловещая тень нависла над Землей. Все
себе жили и в ус не дули. Но ледяное дуновение Смерти уже обожгло наши с Санькой
лица.
Представители ЦУПА, НАСА, ЦРУ и ФСБ докладывали Сашке:
"Непобедимая армада нечеловеческих инопланетных существ стоит на подступах
к Солнечной системе. Это агрессивные, кровожадные инопланетяне. Наш маленький
космический флот они смели в доли секунды и предъявили планете Земля ультиматум".
"Мне казалось, что это сон," — скажет потом Сашка.
Но это не было сном.
— Нам грозит частичное уничтожение и полное порабощение, — скорбно произнес
Президент Соединенных Штатов.
— И вы тут очень даже причем, — не дав Сашке открыть рот, веско добавил Президент
России, — Вспомните свою великую фамилию — Шаляпин!
Сашка сидел хмурый. Он ждал. И весь был, как перед броском.
— Дело в том, — продолжил Директор НАСА, — что эти существа чрезвычайно азартны.
И вся их цивилизация, их вера и традиции построены на этом. Кто — кого.
— Из всех азартных игр, которые существуют на Земле, они выбрали футбол, как
это ни странно, хотя он и не является азартной игрой в нашем понимании, — сказал
Генеральный Секретарь.
— Нет, это не странно, — вставил Сашка.
— Они хотят устроить генеральное сражение, — заговорили все на перебой.
— Матча-реванша не будет.
— Игра состоится на луне. При уменьшенной силе тяжести. Такой, как у них на
планете. В этом преимущество врага...
— Соперника, — поправил Сашка.
— Честь игрока для них превыше всего. Если они проиграют, они уберутся восвояси
и самоуничтожатся...
— Сделают себе харакири, — добавил японский президент.
— Они еще никому не проигрывали!
— Десять цивилизаций они уже стерли с лица земли, то есть, конечно, космоса...
— Им нет равных в техническом развитии и вооружении!
— И в опытах ведения войн и матчей!
— Вся надежда на вас. Земля да и вся Вселенная зависят от вашего поединка...
— Собирайте команду. Даем вам неограниченные полномочия!
— Да поможет вам Бог!
Все замолчали и напряженно уставились на Сашку. Сашка посидел, посидел, потом
встал и очень-очень серьезно сказал:
— Мы сделаем Это.
До матча оставался целый месяц. Сашка яростно тренировался и собирал команду
лучших.
"Эх, жаль, нет тех легендарных! — бывало говаривал он. — С ними я выиграл
бы любую битву!"
Я помню последний костер на берегу Истры. Мы ничего не пили и молчали. Мне
почему-то казалось, что я больше не увижу его. И мне было спокойно. И Сашке,
наверное, тоже. Потому что больше ничего не оставалось. Это был Пик.
На прощанье я обнял его и сказал единственную фразу:
— Лётай, Сайка!
* * * * *
Сашка и его команда сделали это.
Кошмар, нависший над планетой, рассеялся. Вселенная была спасена. Инопланетяне
сдержали слово и самоуничтожились, не вынеся позора. Единственный гол в матче
на последних секундах забил Пеле. Ударом от своих ворот. Он и Санька стали
не просто героями, а новыми Спасителями. Возникла новая религия — футбольная.
И ее апостолами были Санька и Пеле. Большего Сашке уже не достичь, он приобрел
бессмертие.
"Врешь, — усмехнулся бы, наверно, он. — Я обрету еще самого себя..."
Матч был фантастически трагичным. Игра шла в одни ворота, в Сашкины. В первые
полчаса нашего яростного сопротивления бронированные существа покалечили и
сломали всех игроков-землян. Всех, кроме Саньки и Пеле. И они выдюжили. В мяч
был встроен миниатюрный фотонный двигатель, который управлялся радиолучем команды
соперников. Их ворота были в два раза меньше, а голкипер в два раза больше.
Санька лётал. Он лётал и лётал вместе с Пеле. Они играли не на жизнь, а на
смерть. Зубами вгрызаясь в свою территорию. На последней минуте, когда терять
было нечего, и когда вся команда соперников, включая вратаря, бросилась на
штурм наших ворот, и когда из-за этих бронированных тел радиолуч прервался,
Пеле интуитивно почувствовал это, на какие-то доли секунды завладел мячом и
крутым обводящим ударом послал мяч в далекие ворота. Изо всей силы, которую
умножило отчаянье. Луч успел поймать мяч только за линией ворот.
Мы победили. Но последняя секунда была страшной. Пеле и Санька чудом уцелели
в этой мясорубке. Пеле, правда, недолго потом протянул. Я навещал его, а он
все звал Сашку. Но Санька не пришел. Я искал его, но напрасно. Не нашел его
никто. Не нашли все секретные службы вместе взятые. Может, он обитал в шалаше
на каком-нибудь атолле, или на Луне, в одном из кратеров, возле Моря Дождей.
Я часто смотрел на Луну в телескоп, но ничего не заметил. Ничего не заметили
и космические аппараты, посланные на поиски Сашки на Венеру и Марс.
Я думаю, он был жив, просто его самого не стало. Он выполнил свое предназначение
и канул в омут своей печали.
Сашка, я надеюсь, ты помнишь меня и мы встретимся там, на берегу Леты, в Серебряной
траве, в Серебряной петле Счастливые Серебряною Смертью. Мы выпьем на посошок
золотистого вина, улыбнемся и отправимся туда, где нас ждут неведомые широты.
У нас еще все впереди. Все там, где разрывая дождливое пространство, встает
перед нами страна, и наши корабли уже поднимают паруса, и ветер дует, раздувая
их облаками, и зовет голос неизвестного чуда, других берегов, будущих побед
и подвигов. И что там ждет и что прельщает — не важно. Это — Судьба. Так вперед,
к Судьбе своей, к несчастьям нового знания и открытиям души своей!
А ведь все так прекрасно начиналось...
Каждый умирает по-разному. Я прошу не судить меня за то, что я не приукрашиваю
кончину этого великого человека. Сашка бы меня понял.
Смерть Сашки я почувствовал сразу. Случилось это во время последней германской
войны. Мы только что, день назад, заняли передний рубеж немецкой обороны. Это
было после того, как Сашка играл за ящик тушенки. Немцы, отступая, оставили
после себя коварную ловушку. Наверное, ржали как кони, представляя как кто-нибудь
в нее попадет. Нет, это были не мины и не капканы. Это была очень глубокая
выгребная яма, заполненная за полгода оборонительных боев. Деревянную будку
они, конечно, уволокли с собой на следующие позиции, а яму прикрыли маскировочной
сеткой и припорошили песком. Мы отдыхали после боев. Шел дождь. Мы с ребятами
играли в блиндаже в домино. Кто-то тренькал на гитаре. Сашка ушел побродить.
"Смотри, на снайпера не нарвись!" — каркнул ему кто-то вслед. Сашка
не ответил. Он последнее время был смурной и квелый, и все подшучивали над ним.
Даже пить Сашка отказывался. Он ушел, накинув плащ-палатку.
Мы играли. Игра была в самом разгаре. Дождь усиливался, часовые прятались от
дождя кто где. С потолка капала вода. И поэтому никто не услышал тонкого вскрика.
Впрочем, я думаю, Сашка и не кричал. Он упал в яму и не смог выбраться. Плащ-палатка
и амуниция тянули вниз. Дождь подливал воды. Санька захлебнулся в дерьме.
А мы в это время закончили очередную партию, разлили спирт по кружкам и Сашке
оставили, а сверху кто-то положил краюху хлеба и посыпал его солью. И получилось,
как покойнику. Мы чокнулись без тоста, я вспомнил Сашку, ящик тушенки, обидные
заголовки немецких газет, Генриетту и все, что случилось с нами. Тихо, больше
про себя произнес "За тебя, Алик" и выпил свой спирт.
И тут же понял, что Санька мертв.
Незадолго перед Смертью Сашка приснился мне веселый и хохочущий.
— А я тут лётаю, — сообщил он. — Давай ко мне, Серега!
И он ловко перевернулся в воздухе.
Мне стало хорошо на душе. Солнце било в глаза, вокруг благоухала природа. Птицы
пели. Небо было синее-пресинее. Сашка снова был рядом. И мы были молоды, чертовски
молоды.
— А где Царь? — засмеялся я, не знаю отчего.
— А я и есть Царь! — гоготнул Сашка. — Я ведь лётаю! Эго-го-го!
И он с диким свистом, набирая крейсерскую скорость, понесся к горизонту.
— До-го-няй-ай-ай! — долетело до меня его эхо.
— Постой! — хотел было сказать я. — Там больно? Там страшно?
Но он уже не слышал меня. Он превращался в точку. И вот, когда точка достигла
горизонта, она вдруг вспыхнула и заискрила яркой звездочкой.
— Эге-гей! — многократно повторяло эхо. — Дого-няй! Я у-ле-та-ю... Таю... таю...
таю...
— Куда-а?! — прокричал я и удивился, какой у меня чистый звонкий голос.
Но ответа не последовало. Я и так знал — куда. Я бросился в это окно, навстречу
ветру, и полетел, понесся и захохотал от безудержного счастья.
— Эге-гей! До-го-ня-ю-у-у! — закричал я ему вслед.
В страну сновидений.
Вот так вот и лётают, Сайка!
26 - 27 мая 1997 года.
 в
начало........................ в
начало........................ на
главную страницу на
главную страницу
|
|